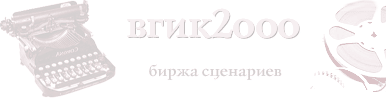
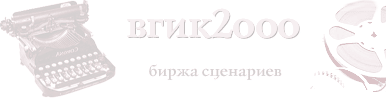 |
||||||
Хотя еще мы траура не сняли По нашем брате, Гамлете родном, Но надо будет овладеть собою И несколько умереннее впредь Скорбеть о нем, себя не забывая… (Шекспир, "Гамлет") |
||
1. 108 БЕЛЫХ ОФИЦЕРОВДа не знала я, кто такой Кайдановский. Ну, видела за несколько лет до поступления во ВГИК "Сталкера"… И поступала я не столько к нему, сколько "в мастерскую авторского кино" — во всяком случае, у Мастера (есть в этом что-то булгаковское…) были планы ее таковой сделать. Мне лично всегда было скушно работать только с бумагой. И вот — режиссер, актер набирает сценарный курс. А кто тогда из нас знал, что он пишет? Вернее, кто читал? Книжка сценариев вышла уже после смерти. Хотя черновой вариант "Восхождения к Экхардту" я имела честь читать у него дома, с компьютера — я тогда еще не пользовалась компьютером, и потому глупо кивала, как китайский болванчик, а Мастер, словно ассистент пианиста, "переворачивал страницы" — нажимал page down. Но об этом позже. |
||
Кайдановский был большой, как белый слон. Ржавые рыжие волосы, а руки очень белые и большие. Мясистые руки, но мягкие. В моем представлении, такие руки должны были быть у римских патрициев. Я их, по крайней мере, именно такими воображала: плотными и белыми, уверенно держащими чашу. Однако колец мастер не носил, и приличествующим случаю маникюром не обладал, наоборот, ногти его были стерты, как у школьного математика, часто пишущего мелом. Было ощущение его незащищенности при общей беззаботности. Слишком большой, как морское чудо, например, кит. Он сам часто говорил про себя, что сыграл в кино слишком много белых офицеров: "Когда я играл своего 108-го…" Откуда именно эта цифра?.. (108 — магическое число. 108 оборотов делает Земля, вращаясь вокруг чего-то, или, наоборот — что-то, вращающееся вокруг Земли.) Вот почему по известному печальному поводу Наташа сказала: "108 белых офицеров Пошли купаться в море…", что в свою очередь вызывает целую цепочку ассоциаций с первой эмиграцией. Зимой он мерз. Одевался достаточно пижонски, в костюмы свободного покроя из хороших и дорогих тканей, преимущественно естественного происхождения. Запахи на нем не задерживались — даже запах табака, хотя дымил не переставая. Костюму он уделял не в пример больше внимания, чем порядку в квартире. Под кроватью у него лежали старые носки. На столе у него стояли ботинки. Не знаю, как он ухитрялся при этом свежо выглядеть. Должно быть, времени хватало только на себя. Однажды я ждала его под дверью (в первый и последний раз, что мне удалось у него побывать). Со мной были Яна и Наташа, про которых я тогда еще не знала, что они — мои подруги. Собственно, поехать к мастеру должна была только Яна, чтобы отвезти пару тонких листиков работ, так было заведено — мастер далеко не всегда приходил в институт. Наташу отрядили показывать дорогу, а я навязалась сама, потому что вдруг поняла, что соскучилась. Мастера дома не оказалось. Как только мы уселись на лестинце и расположились ждать, приехали лифт и из него — та-дам! — вышел мастер вместе с новой женой, Инной. Брови у него поползли вверх, но он был скорее рад. Заставил нас войти в квартиру, при этом Наташа сделала какой-то непонятный жест рукой и убежала, на что я тогда не обратила внимания. Я не оборачивалась, потому что интересы мои были впереди... Пришлось знакомиться со скандальной собакой, чье пузико было как бочка, раздеваться, проходить в комнату и участвовать в семейной трапезе лишними наблюдателями. Инна как всегда была уныла и молчалива, похожа на длинную щепку, руки все время держала скрещенными и сутулилась. Потом пошла и завернулась в темную шаль. Кайдановский пытался кормить нас огромными пельменями, напоминающими свиные уши, которые они с женой почему-то торжественно именовали "манты". Есть я не могла от волнения, желудок у меня дрожал и вообще как-то не глоталось, но я уцепилась за приличный предлог: сослалась на подвернувшийся кстати пост (а может, даже и на собственное вымышленное вегетарианство), и таким образом мантов избежала. Непредусмотрительная Яна вяло ковыряла в тарелке, с завистью на меня поглядывая. Кайдановский извинился, что должен отвести Инну в театр, потому нас оставляет одних в квартире. Дожидались мы его минут сорок. За это время немного пришли в себя. Мы даже неосторожно поиграли с собакой Зинкой, в результате чего одно кресло было ей намертво оккупировано, она охраняла в нем от нас свою любимую игрушку — зайчика, при малейшем нашем движении издавая азартный заливистый лай. (Сей собаке было посвящено единственное приличное стихотворение Иртеньева: |
||
"У попа была собака, он ее любил, Она съела кусок мяса — он ее любил; Она писала на коврик — он ее любил; Она тапочки сожрала — он ее любил… И сказал он той собаке: "Видишь, все терплю!.." И ответила собака: "Я тебя люблю…".) |
||
Потом Кайдановский приехал, освободив нас от страха перед соседями, стал поить нас чаем, мы разговаривали об искусстве, выясняли совпадения — несовпадения вкусов, я довольно бесцеремонно выражала ему восхищение его комнатой и заведенным в ней беспорядком. Он, в соответствии с появившейся у него в последние годы манерой, демонстрировал — то есть подменял себя — показом разных диковинок. Продемонстрировал сначала свою комнату, подолгу задерживаясь на каждом предмете и рассказывая историю той или иной вещи — кем подарено да где найдено… Впрочем, этой кунсткамерой он на самом деле гордился. И, конечно, все в комнате было расположено не только для себя, но и напоказ — не нарочито, а так, как пишут дневник — вот придет знающий человек, и сразу все про меня поймет… Потом он еще хвастался толстенными альбомами примитивистов, и мы поочереди тыкали пальцем в понравившиеся репродукции. Но попадали всегда на разные. Я весьма самонадеянно высказывалась против женского кино, в особеннсти Муратовой. "А мне нравится…" — расстроенно говорил мастер, "ее называют "анфан терибль", ужасный ребенок…" "Ребенок? — саркастически смеялась я, — Эта некрасивая женщина?.." Вообще, я говорила много безапелляционных глупостей, конечно. Временами мне казалось, что у меня в глазах двоится: на входной двери висел постер со "Сталкера", с автографом Тарковского. Поскольку Тарковского я боготворила, я одновременно узнавала и не узнавала в сидящем передо мной человеке того сталкера, все время забывала про это; но время от времени взгляд у меня фокусировался на плакате, и тогда лицо Кайдановского обретало новое значение, я пугалась и словно видела проступающие сквозь его лицо двойные, тройные смыслы, а само оно превращалось в мраморную маску, и я старалась нащупать "связь времен", ниточку, что вела от Кайдановского прямо к Тарковскому — поймать ее, и уж более не выпускать… Огромный кот Носферату прошел по столу, а потом стал жрать майонез. Я, покосившись, сказала: - А у вас кот майонез ест. - Пускай ест, если тебя это не смущает, — сказал мастер, — я его вообще всегда на столе кормлю. Прижимая к груди руки для пущей убедительности, я сказала, что меня сам факт нахожднения кота на столе нисколь не способен шокировать: - Но ему, наверное, вредно есть майонез. - Да? — испугался Кайдановский. — Тогда отними, пожалуйста… Надо отдать нам с Яной должное — регулярно мы поднимались и сообщали, что нам пора, на что Кайдановский просил посидеть еще, а мы, конечно, не могли отказать… Совершенно не помню, про что же я говорила? Так бывает, когда тебя разбудят, и ты ответишь, а с утра не вспомнишь, что вообще просыпался; а раз не просыпался — как вообще мог говорить в таком состоянии? Кроме того, я в каком-то двигательном возбуждении искурила почти всю его пачку. Проговорили мы часа три, не то четыре, и прервались только тогда, когда позвонила удивленная Инна — Кайдановский забыл, что должен был забрать ее из театра. Он сразу заторопился, попрохладнел, словно это мы были виноваты в его забывчивости по отношению к молодой жене, собрался и мы вышли. Просто спустились вместе на лифте. После этого я видела его еще один раз — он посмотрел на меня поверх очков, таких маленьких квадратных очечков в роговой оправе, тех, что были на нем и в "Волшебном стрелке"… А я тогда заботилась о своей внешности, и очков не носила… Так вот, он подозвал меня к себе что-то уточнить в моих писульках, я стремительно наклонилась носом к бумаге у него в руках, чем и вызвала эту преувеличенно-удивленную реакцию — любимый наигрыш, когда очки сползали на кончик носа, а лоб собирался в складки. Тут он поинтересовался, какое у меня зрение и сурово приказал очки носить. Я, конечно, не стала… |
||
2.YOUR FUNERAL — MY TRAILТот важный день моей жизни я запомнила отрывочно, благодаря температуре 39. Простыла я, отважно бегая вместе со старостой ночью в легком пальто за дополнительными бутылками водки для сокурсников, которые при полученном вечером печальном известии сбились в кучу, словно стайка воробьев. Они сидели в общежитской комнате, блаженной памяти 1003("десять-ноль три"), плавающей в дыму, вертели Arizona Dream нон-стоп, страшно пили и не закусывали. С тех пор Arizona Dream вызывает у меня самые что ни на есть тяжелые чувства… Вид у всех был испуганный, Аркуша все время плакал, и слезы у него стекали по небритым щекам. Больше, кажется, никто не плакал. Этим вечером староста курса Миша Трофименко позвонил мне домой и сказал каким-то раздраженным голосом: - Ася, Кайдановский умер!.. Я опешила, более всего от того, что предупреждают меня об этом событии так бестактно. Возможно, впрочем, что именно эта внезапность и оголенность новости послужила смягчающим фактором, подобно резкой мгновенной боли при глубоком порезе, с последующим сразу вслед за этим бесчувствием. Такую большую новость невозможно было осмыслить сразу, потому она упала в меня и еще несколько дней лежала, медленно растворяясь и пузырьками прорываясь к сознанию. Я слегла, поэтому в предварительных организационных делах, в отличие от Яны, не участвовала. Но на отпевание я поехала, чтобы иметь возможность еще раз посмотреть на Кайдановского. Почему-то я не допускала мысли, что можно было бы оставить его так, чтобы его без меня зарыли, как будто мастер или вообще кто-то мог во мне особенно нуждаться в этот день. Мне нужно было видеть его во всех ипостасях, и сохранять последнее впечатление как о живом я не хотела. Служба была в церки в Брюсовом переулке, которая почему-то облюбована для похоронных дел "культурной" московской публикой. В церкви, несмотря на ранее время, было темно — или в глазах у меня было темно? — и очень много народу, взгляд выхватывал из толпы актеров со свечами в руках, рыдающую Друбич, Соловьева… Казалось, стоит обернуться — и увидишь кинокамеру, установленную где-то за спиной или во мраке под куполом. Впрочем, камеры-то как раз были — снимали новостные каналы. С другой стороны — что ж им, не плакать, в угоду моим представлениям?.. Мне был виден непонятный ракурс: торчащий нос и дальше — горка цветов. Сквозь белую рубашку на груди Кайдановского просвечивали синие буквы Cann. Конфуз: мой сокурсник, армянин Леван поджег свечкой спину какой-то важной дамы в норковой шубе и судорожно принялся ее охлопывать. Руки у мастера были синюшные, с потемневшими у корней ногтями, лицо очень бледное, и на губах запекшиеся светлые корки — а может, просто неровно положили грим. И, конечно, этот хрупкий, как осиные гнезда, венчик со славянской вязью. Много раз я потом слышала страшные рассказы, как пока тело стояло дома, из головы у него что-то подтекало, чуть ли не синего цвета, якобы в морге плохо зашили после вскрытия. А еще кот Носферату чуть не сшиб гроб — задел стол, подсек шаткую ножку, и гроб стремительно поехал вперед, напугав священника. Кайдановский не хотел держать свечку, она прямо зажженная все время падала в гроб, и крест держать не хотел и выбрасывал, и только когда дали ему резной, памятный, из сандалового дерева, согласился. …Мороз стоял страшный, от него болело лицо и перехватывало дыхание. Зайдя на коладбище, я огляделась и увидела, что все, что происходит с нами — прекрасно: усыпанный еловыми лапками снег, непременная жаркая кладбищенская собака с длинным языком, высокие сосны с лысыми макушками. Мне показалось, что делается что-то очень радостное, мы уходили в иную реальность как под воду с этим несомым гробом, и на поверхности жизни нас уже не должно было быть видно; и все это вокруг будто бы и было Бог. Я слышала его где-то рядом, и никогда раньше он не проходил так близко, хотя на этот раз и не по моему поводу, но все же — близко, близко. Вот почему я так думаю: я была готова к ощущению потери, отчаяния и горя, а вместо этого, заглядывая в себя, находила какую-то неуместное, неуемное ликование, тугими волнами приходящее и приходящее из души, и оно было таким по крепкости, что на время перекрывало горе. Между тем мастера я любила, и в душевной черствости себя заподозрить не могла; следовательно, умный организм сам отзывался прежде разума на присутствие незримого. А все положенные чувства пришли позже, через несколько дней. Провожающие столпились в конце аллеи, прислонив к ногам, как к столбам, венки. Началось последнее целование. Я как-то неудобно влезла, между родственниками или ближайшими друзьями, чтобы поцеловать мастера в мертвый и синий лоб, потому что при жизни Кайдановского никогда не целовала, и другого случая поцеловать его мне бы больше не представилось. Но, прикоснувшись губами к морозной пыли, ничего не почувствовала, никакого ответа, еще меньше, чем если целуешь изначально неодушевленный предмет. Потом гигантский дятел задолбил кору в морозном воздухе — сухой стук молотков, заколачивающих крышку. Последовавший затем вечер в Доме кино можно опустить. Трясясь на обратном пути в автобусе, я умирала — долгое хождение по морозу с температурой, а также неумеренное курение весьма этому способствовали. Ни к радости, ни к красоте, ни к Богу это совсем уже не имело отношения. |
||
3. УЛЯЛЮМСо временем мы стали воспринимать кладбище как род собственной загородной резиденции. Жизнь шла своим чередом, но в эпицентре ее была скромная, разползшаяся могилка. Некоторое время мы ездили туда куждое воскресенье. Весной всегда распускалось много цветов, одно время при сторожке жили павлин и ослик; воздух на кладбище был чище, чем в городе, хорошо было видно закат, и ветер шуршал в соснах так утешительно. Возвращались мы румяные от долгого вдыхания кислорода и физических упражнений по расчистке территории. Постепенно во время совместных разговоров мы лучше узнавали личность покинувшего нас мастера, многократно обсуждая мельчайшие подробности. Когда наши куцые воспоминания истощились, а единственный продолжительный совместный визит к Кайдановскому был обсосан со всех сторон, так что остался скелет переживания, голый и блестящий, мы не нашли ничего лучше, как от беспомощности перейти на сны. Кайдановский продолжал жизнь в наших снах, а со временем его сменили другие персонажи. Должно быть, мы все в то время немножко спятили, постоянно находясь в душной атомосфере влспоминаний, в комнате, в которой были развешаны по стенам фотографии Кайдановского. У каждого из наших сокурсников долгое время висели две фотографии — одна, непохожая вовсе, Кайдановского, и вторая — умершего вскоре после мастера сокурсника, захороненного по какому-то чудовищному совпадению на том же кладбище; мы были с этими фотографиями, как члены тайной секты, отмеченные неведомым простым смертным знанием. Кроме того, мы пересматривали все его фильмы, перечитывали имевшуюся тонкую книжку с его потусторонней прозой, и находили во всем этом множество примеров для подражания. Мы пытались сверять свои поступки с тем, как бы отнесся к ним мастер — как ни странно, у нас обыкновенно получалось, что мастер должен был бы "найти это хорошо". Но, конечно, это вовсе не было культом, просто жизнь сложилась так, что появился на миг в ней человек из грез, похожий на героя книги, поманил и пропал. Я думаю, сходные ощущения должны испытывать люди, на девятый день путешествия в пустыне увидевшие чудесный мираж. Мраморная доска с могилы Кайдановского, на которой выбиты его инициалы и годы жизни, мирно пылится у Наташи под столом. Это лишняя доска, через три года на могилу наконец-то поставили мраморный крест, совершенно не по канону: то ли надо в ногах, а поставили в головах, то ли наоборот — об этом ей хорошо известно. Ей известно также, что сосед, что находится справа от сосны — татарин, похоронен по татарскому обычаю, полумесяцем, так что когда мы садимся на лавочку, то, строго говоря, ходим прямо по нему. Когда настанет конец света, говорит всегда уверенная в воображаемом Наташа, надо быть на кладбище, помочь мастеру выбраться из-под этой мраморной фигни. Я почему-то это воскресение мертвых очень хорошо себе представляю. До каких детских суеверий мы дошли, можно себе представить, если знать, с каким подозрением мы засматривали в глубокую дыру, образовавшуюся однажды в глиняном холмике, а также обнаруживали каждый раз у могилки окурки от пресловутого "мальборо" — крайне подозрительные окурки! Не иначе, как сам выходил по ночам перекурить, прислоняясь к сосне, под которой лежит горемычный татарин. Кладбище для нас стало — заповедная земля, и могила — земляное чрево; в нем помещался центр тяжести. Мир вращался вокруг неподвижного тела. Мне снились разрытые могилы, и все шутки и сценарии несколько лет были посвящены теме смерти. ( Небольшая вставка: Стоит Наташа у могилы на кладбище, к ней подходит мужчина и спрашивает: "Девушка, а чего это вы такая грустная?..") К слову сказать, через месяц на том же кладбище оказался похоронен один из наших сокурсников, умерший тоже от сердца. Через какое-то время перебрался к нам на Кунцевское и Княжинский, которого мы восприняли уже как дорогого гостя. Однажды мы забыли, что находимся на кладбище: зимой, в честь небывалого выпавшего снега, устроили побоище — бегали по кладбищу, лупили друг друга снежками и как минимум по разу падали в сугроб. Жизнь брала верх. А недавно, когда отмечалась траурная дата, мы притащились на кладбище с видеокамерой и часа четыре, пока не стемнело, снимали самих себя и всех, кто пришел на могилу, и в конце концов решили, что отлично проводим время. Такова наша инфантильная реакция на казенную атмосферу горя. Искренне надеюсь, сам мастер это одобряет? Датнова Ася. |
||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
|
||||
|
Счетчик установлен 4 сентября 2001 - 1156